ОТ МАЛИНОВОГО ЗВОНА К ЗВЕНЯЩЕЙ ТИШИНЕ. Мария Кузьмина
Житие преподобного Никодима Кожеезерского

Преподобный Никодим Кожеозерский. Рисунок http://kozhozero.ru
Русское монашество большею частью развивалось на протяжении веков внутри общежительных монастырей – в духе соборной молитвы и братской любви. Однако и некоторые древнерусские отшельники еще при жизни достигли высокой добродетели, а многие из них промелькнули в истории русской святости подобно ярким метеорам. В числе последних, безусловно, и преподобный Никодим, пустынник Кожеезерский.
Лишившись родителей и оставив родную весь в окрестностях Ростова, Никита (будущий преподобный Никодим) довольно долго вел жизнь обыкновенного мещанина. Получив навыки кузнечного мастерства в Ярославле, будущий отшельник устремляется в Москву, многолюдную и обещающую человеку его профессии богатую выручку. И в этом нет ничего удивительного, ведь рыба ищет, где глубже, а человек – где лучше. Однако столичный град оборачивается к своему гостю знаменитыми сорока сороками, гробницей святителей Петра и Алексия лишь в том случае, когда целью его прихода является желание услышать малиновый звон и поклониться его святыням. К Никите же, посетившему город в чисто прагматических целях, Москва поворачивается своей темной стороной, оказываясь городом криминальных интриг.
Жена товарища Никиты по ремеслу («бяше же блудница, зело прокудива[1]») готовит мужу отравленный кисель, отведав которого, тот умирает. Никита, испивший того же киселя, остается жив, хотя долгое время страдает «утробой», однако жестокий удар судьбы, полученный юношей, жизненный путь которого начал уклоняться от преподобнического образца, заставляет его задуматься о вечном. Так некогда сановный вельможа Федор Колычев, столкнувшись с опалой и казнями близких родственников, решается наконец в возрасте 30 лет оставить двор и направиться в Соловецкий монастырь, чтобы принять в нем постриг с именем Филипп.
Праведник прозрел будущее Никиты, ибо встретил его недоуменным вопросом: «Откуда тут Хозюгский пустынник?»
То, что происходящее было закономерно и свыше предначертано, ясно из пророческого видения отрока Никиты, когда небесный глас обращается к нему, называя Никодимом, то есть возвещая его постригальное имя: «И еще ему юну сущу, изыде со скоты в пусто место, и слышит глас свыше, глаголющ сице: “Никодиме, Никодиме!”» Позднее «некий человек», проживавший в Кулишках, «в наземной кущи, именем Илиа», еще точнее возвещает отшельническое будущее Никиты: «Откуду семо прииде Хозюгский пустынник?» В реплике Ильи стирается временная раздробленность жизни: для городского подвижника в образе Никиты является отшельник, мистик, аскет, встреча с которым в оживленном уголке столицы вызывает у него искреннее удивление: «Откуду прииде?» Перед нами не игра и не эффектная поза – искреннее недоумение праведника, умеющего видеть не только поверх, но и вглубь.

Со временем в душе Никиты зарождается желание вести монашескую жизнь, и из дымки московских улиц, на которых торговал преподобный до того, вырисовываются очертания Кремлевского Чудова монастыря. Москва все же спасает Никиту, а благословение святителя Алексия, основателя обители пострига, сопровождает его на протяжении всего монашеского пути. Впоследствии, много лет спустя, именно святитель Алексий является Никодиму в пустыне в сопровождении Троицкого игумена Дионисия и возвещает преподобному о его скорой смерти и вселении в небесные обители: «со святыми его будеши причтен и с теми во царствии Владыки Небеснаго водворишися». Однако перед тем как услышать эти слова, надо было «нуждею восхитить Царствие Небесное» (ср.: Мф. 11: 12).

Московский монашеский искус преподобного продолжается 12 лет, 11 из которых он проводит в Чудовом монастыре и еще один год – на Крутицах, вместе с духовным отцом Пафнутием, возведенным в митрополичий сан. Именно год, проведенный в митрополичьих палатах, оказывается поворотным для созревания в душе Никодима решения искать безмолвия, уединения. По всей видимости, бесконечная суета, административная волокита, всегда более или менее заполняющая будни высокопоставленного церковного иерарха, послужили катализатором для созревания решительного намерения преподобного порвать с миром людей.
Получив благословение духовного отца, Никодим покинул Москву и «устремися к морским странам». Примечательно желание святого уйти не просто в пустыню, на Север, а, как выражались порой агиографы, в пределы «моря дышущаго окиана», то есть на символический край земли, где никто не станет вторгаться в его молитвенную беседу с Богом. Немного не дойдя до Белого моря, Никодим приходит «яко на показанное ему место» в Кожеозерский монастырь, в котором подвизается рядовым монахом еще около полутора лет и только тогда принимает решение удалиться во «внутреннюю пустыню[2] на реку, именуемую Хозюга». Место, выбранное Никодимом для подвига, замечает преподобный, «неутешно бяше, округ себе имея мхи и блата». В этом «неутешном» месте преподобный начинает тот духовный подвиг, который оказывается наиболее созвучен ему: молитвенная созерцательность перемежается с земледельческим трудом, труды на скромном огороде, где растет репа, сменяют удение рыбиц и созерцание смиренных красот северной природы.
И видят они: ходит преподобный по лесу, а рядом с ним – олени, ничуть его не боящиеся
Впоследствии Никодим достигнет удивительной гармонии с этой природой, и игумен Авраамий, возвращаясь с дальних пожен, увидит следующую картину, поразившую его: «и се увидехом преподобнаго в лесе близ реки ходяща, окрест же его дивии звери, глаголемии елени, ходят, не боящеся преподобнаго. Егда же мы начахом глаголати, елени же услышавше наш глас, и побегоша. Игумен же вопроси преподобнаго о еленех. Он же рече ему: “Сии зверие, честный отче, часто семо приходят”». Благолепный старец в окружении пугливых оленей, с детской доверчивостью окруживших его, – этот сюжет лег в основу одного из наиболее узнаваемых иконописных изображений преподобного Никодима! Однако не следует полагать, что эта идиллия была достигнута сразу: многие годы неустанного подвига потребовались иноку, чтобы преодолеть пустыннические испытания и в первую очередь – бесовские искушения, миражи, фантасмагорические образы, с помощью которых бесы устраивали психические атаки на душу праведника.
Некий солипсизм[3] сознания становится своего рода профессиональным заболеванием анахорета и делает его удобной жертвой самых, казалось бы, незначительных обольщений. Так, по словам агиографа, чуть было не низринуло в ров отчаяния преподобного трухлявое бревно, обернувшееся женщиной, «в червленое одеяной». Позднее бесы принимали облик грабителей, разбойников с большой дороги и… исчезали без вести при звуках псалмов и молитв, произносимых преподобным.
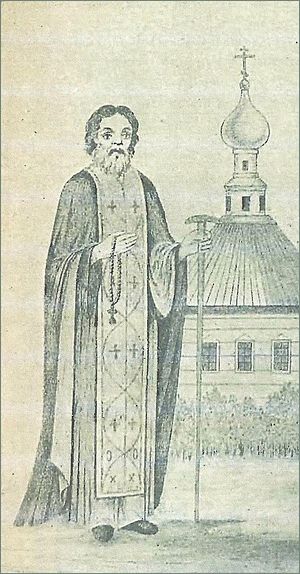
Впрочем, два искусительных испытания, кажется, вышли за пределы импрессионистского[4]морока. Первое из них стало для преподобного своеобразным огненным крещением: «Прииде же окаянный диавол и келлию преподобнаго огнем запали». Келья преподобного действительно воспламенилась, и только проливной дождь погасил занявшееся было пламя. При этом сам Никодим, предпочитающий скорее умереть сожженным заживо, нежели покинуть свое молитвенное пристанище, сопоставляется в житии с тремя отроками, брошенными в огненную печь по приказанию Навуходоносора: «Преподобны же восприим хвалу святых триех отроков и начат пети, сице глаголя: “Благословен еси, Господи Боже отец наших, и препетый и превозносимый во веки” (Дан. 3: 52)». Вторым искушением, согласно стиху псалма: «Проидохом сквозе огнь и воду» (Пс. 65: 12), стало искушение водой: «воду убо, яже в реце Хозюзе, ратник возвышает на преподобнаго. Толико убо возвысися вода и тамо сущия бреги, вся потопи ю, яко вмале видети верха ея». Никодим с благословенной иконой в руках взбирается на кровлю своего жилища и там пережидает пик паводка. Так пустынническое житие праведника становится жизнью на грани возможного, на пределе человеческих сил, где силе вере и молитвы преподобного противопоставляется сила видимой и невидимой брани.
Впоследствии, когда окрестные жители, приносившие Никодиму «от потребных по силе своей», выстроили ему новую келью, более просторную и удобную, «от первыя растоянием, яко единою или дважды стрелою стрелити вверх по реце», преподобный долгое время отказывался переселиться в нее, несмотря на то, что «бяше бо первая его келлия скудна зело и от диаволскаго огненнаго запаления прогорела». Утлая хибарка была, по всей видимости, дорога святому («паче царьских чертог любяше ю») не только тем, что «егда бо прииде преподобный в пустыню, тогда своима рукама создаша ю себе» (теперь же, состарившись, Никодим не имел сил выправить накренившиеся стены), но и памятью о тех скорбях и лишениях, которые он в ней перенес, выйдя из схватки с демонскими полками – в соответствии со своим победным именем[5] – венценосным сокрушителем бесов.
Изведав на своем опыте тесноту пустыннической жизни, преподобный отказывается благословить на отшельничество одного из своих учеников. Ослушавшись учителя и вселившись во внутреннюю пустыню, самонадеянный инок «впаде в вещи неудобныя» – начал совершать Литургию без благословения епископа на неосвященном алтаре, после чего был изгнан братией Кожеозерского монастыря из его пределов.

Как видим, северорусское отшельничество в начале XVII века не разрушало свои связи с монастырем, хозяйственное устроение которого во многом обеспечивало жизнедеятельность пустынника, а являлось маргинальным, но тем не менее узаконенным проявлением одного из возможных образов монашеского жития. Из монастыря преподобный нередко получал продовольствие, время от времени принимал посетителей, некоторые из них становились его учениками. Таким образом, та родовая пуповина, которая связывала Никодима с Церковью в лице ее представителей, никогда не обрывалась, а подвиг отшельничества являлся одним из способов монашеской социализации. Когда же возникала такая необходимость, монастырское священноначалие могло изгнать из-под своей юрисдикции самочинного гордеца.
Неудивительно, что, узнав о скорой кончине, изнемогший от старости Никодим соглашается по уговорам игумена Авраамия вернуться под кров Кожеезерского монастыря. Искренняя радость исполняет сердца братьев при возвращении старца в пределы монашеского «града ограждения»: «вся братия изыдоша на сретение, честь велию воздающе преподобному, ведуще его свята быти, и со многим благоговением приступающе к нему и любезно руками своими объемлюще, благословение и святую молитву, яко некое освящение, приемлюще». Однако последнего благословения преподобного сподобляется не убеленный сединами богомолец, а простой монастырский трудник по имени Иоанн, «рекомый Дятлев», которого призывает в свою келью Никодим непосредственно перед кончиной: «“Иди, чадо Иоанне, с миром, Господь да будет с тобою во вся дни живота твоего”».
Возложил на свое лицо послушник «малую часть мантии» преподобного – «и от того часа преста кровь тещи»
С именем этого юноши связана значительная часть житийного повествования, помещенная уже после описания праведной кончины преподобного. Часть эта, восходящая к свидетельствам самого Ивана Дятлова, освещена особенной душевной теплотой покровительственной заботы преподобного о юном и, как показывает сюжет, очень болезненном послушнике. Так, впервые встретившись с юношей, навестившим его вместе с игуменом, преподобный участливо вопрошает: «“А сей Иоанн Дятлев, очима зело болну сущу?”» Действительно, Иоанн страдал тяжелым офтальмологическим заболеванием и не мог читать богослужебные книги, однако по молитвам преподобного в скором времени болезнь отошла. В другой раз Дятлов тяжело угорает в одной из комнат Никодимовой избушки и едва собирается с силами, чтобы в одной сорочке выбраться под открытое небо. Увидев поверженного в изнеможении у порога его жилища юношу, преподобный, вспоминает Иоанн, «прииде ко мне и вопрошаше мя о скорбех моих». Уже после смерти Никодима, страдая от сильных кровотечений и не находя помощи у врачей, Иоанн исцеляется частью мантии почившего старца: «Имея же аз у себе малую некую часть мантии преподобнаго, и тою частию захватих уста моя и ноздри, и от того часа помалу преста кровь тещи из мене молитвами преподобнаго». Но и это не все: Дятлов вспоминает, как накануне своей смерти преподобный явился ему и произнес следующие слова: «“Чадо Иоанне, аз всегда молюся Богу о тебе, яко да подаст ти исцеление”».
Что же стоит за отеческим желанием преподобного оберечь субтильного юношу, который в скором времени, приняв-таки монашеский образ, умирает в стенах монастыря? Не было ли здесь какого-то сокровенного воспоминания, сердечной ассоциации, которую не удалось или не захотелось по тем или иным причинам обнаружить автору? Быть может, слабосильный страдалец воскресил в сознании старца воспоминание о друге юности, товарище по ремеслу, несчастном тверичанине, погубленном лукавой женой; быть может, было и другое, еще более сокровенное воспоминание. Так или иначе – перед нами очень яркая черта агиографического портрета, взятая не из заведомо заданной прориси, а из биографии преподобного.

Несколько раз чудеса, творимые преподобным, рисуют перед читателем картины нелегкой трудовой жизни северян, промысла, занятие которым грозит смертельными опасностями. Житие не раз описывает, как рыбаки и звероловы, сталкиваясь со слепым движением стихий, находят спасение в молитвенном заступничестве Никодима. Так, еще при жизни преподобный является рыбакам, которые поздней осенью, выйдя из устья реки Ворзуги в Белое море, не могут пристать к берегу из-за льдин, преградивших им путь: «и много нам в мори влающимся от належащия бури и еже в мори от ледов, отчаявшимся и живота своего, ко брегу же никако пристати могуще нигде, понеже лед толст уже от брегов стояше». Преподобный, являясь измученным борьбой со стихией страдальцам, расчищает им путь к желанному берегу: «и се видим лды разно расходящася на двое, и бысть нам путь чист ко брегу, аки река, молитв ради преподобнаго отца Никодима».
Заблудившийся в снежной пустыне зверолов спасается не «волей к жизни», а молитвами к Богу и заступничеством святого
Уже после смерти преподобный изводит из ледяного плена зверолова, отбившегося от товарищей и потерявшегося в снежной пустыне: «Ходящу же ми по лду и самому не ведущу, камо иду, лды же разно разидошася и несоша мя в море три и три нощи, аз же от глада и от многаго хождения велми изнемогох». Воистину сюжет, достойный пера Джека Лондона! Впрочем, несчастный скиталец спасается не волей к жизни, как изображается это в одноименном рассказе американского писателя (потому как даже железная воля проржавеет через три дня и три ночи бесцельных странствий без еды и питья по готовому в любой момент проломиться под тобой полярному льду), а молитвой ко всем святым: «Милостивый же Господь наш Иисус Христос ни котораго же от древних святых Своих посла на избавление мужу сему в скорби велицей сущему, и от глада уже умрети хотяща, и по сем погрязнути в глубинах морских, но посла сего Своего угодника новаго чудотворца преподобнаго отца нашего Никодима». По молитвам Никодима ветер приносит льдину, на которой оказался заперт зверолов, к берегу.
В христианстве смерть отнюдь не воспринимается как безотрадный и безнадежный конец, и смерть преподобного в агиографии – это переход его в вечность, истинное рождение для «нестареющейся» жизни, вот почему агиограф Никодима, с суеверным ужасом страшившийся приблизиться к гробу преподобного (действие происходит во сне), получает следующий урок: «И абие падох на гроб и велми убояхся. Преподобный же воста во гробе своем и седе. Ят же мене руками своими и прилежно держаше мя, утверждающе словесы своими, дабы не ужасался и прилежно зря на мя веселым образом».
Действительно, и после своей смерти отшельник Никодим, взрастивший свое духовное сокровище в таежной тишине, богато дарил своим молитвенным заступлением и чудесами страждущих и обремененных, еще раз свидетельствуя о том, что «праведницы живут» во веки (Прем. 5: 15) и что «упование их исполнено» бессмертия (Прем. 3: 4).
- Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы получить возможность отправлять комментарии



