Бог в пещере
 В пещере, под землей, приютились двое бездомных, когда хозяева переполненных гостиниц захлопнули перед ними двери. Здесь, под самыми ногами прохожих, в погребе мира, родился Иисус Христос. Господь наш тоже был пещерным человеком. Он тоже рисовал странных, пестрых существ на стене мироздания; но Его рисунки обрели жизнь.
В пещере, под землей, приютились двое бездомных, когда хозяева переполненных гостиниц захлопнули перед ними двери. Здесь, под самыми ногами прохожих, в погребе мира, родился Иисус Христос. Господь наш тоже был пещерным человеком. Он тоже рисовал странных, пестрых существ на стене мироздания; но Его рисунки обрели жизнь.
Часть II , Глава 1 из книги « Вечный Человек» под редакцией Н. Л. Трауберг
Эта книга начинается пещерой; именно с пещерой связывают ученые жизнь первобытного человека, и в пещере нашли древнейшие изображения животных. Вторая половина человеческой истории, подобная новому сотворению мира, тоже начиналась в пещере. И животные были тут, потому что пещера эта служила стойлом для горных жителей у Вифлеема; там и сейчас загоняют скот на ночь в такие ущельица и гроты.
Именно здесь, под землей, приютились двое бездомных, когда хозяева переполненных гостиниц захлопнули перед ними двери. Здесь, под самыми ногами прохожих, в погребе мира, родился Иисус Христос. Господь наш тоже был пещерным человеком. Он тоже рисовал странных, пестрых существ на стене мироздания; но Его рисунки обрели жизнь.

Легенды и поэмы, которым нет и не будет конца, повторяют на все лады немыслимый парадокс: руки, создавшие солнце и звезды, не могли дотянуться до тяжелых голов осла и вола. На этом парадоксе, я сказал бы даже, на этой шутке зиждется вся поэзия нашей веры; и, как всякую шутку, ученые ее не замечают. Они скрупулезно растолковывают, сколь невероятно то, что мы сами подчеркиваем с вызовом, даже со смехом; они снисходительно объясняют, сколь дико то, что мы сами зовем немыслимым; они говорят, что это слишком хорошо, чтобы сбыться, — но ведь это сбылось.
О контрасте между всемогуществом и детской беспомощностью говорили, пели и кричали тысячи раз в гимнах, колядках, картинках, действах, песнях и проповедях, и нам вряд ли нужен ученый, чтобы мы заметили некую странность. Все же я немного поговорю о ней, потому что она тесно связана с моей темой. В наше время очень любят подчеркивать роль воспитания в жизни, психологии — в воспитании. Нам непрерывно твердят, что первые впечатления формируют характер, и очень беспокоятся, как бы вкус ребенка не был отравлен на всю жизнь плохо раскрашенной игрушкой, нервная система — расшатана неблагозвучной считалкой.
Однако нас сочтут тупыми догматиками, если мы скажем, что есть разница между тем, кто воспитан в христианстве, и другими людьми. Всякий католический ребенок знает по картинкам, всякий протестантский ребенок знает по рассказам о немыслимом сочетании понятий; оно поистине становится одним из его первых впечатлений. Эта разница не теологическая, а психологическая, она долговечней и прочней богословских убеждений. Она, как любят говорить ученые, неискоренима.
Для любого агностика или атеиста, знавшего в детстве Рождество, хочет он того или нет, связаны на всю жизнь два понятия, которые для большей части человечества весьма далеки друг от друга: ребенок и неведомая сила. которая поддерживает звезды. Инстинктом и воображением он соединит их даже тогда, когда разум его не увидит в этом смысла. Для него всегда будет привкус веры в изображении матери с ребенком, привкус жалости и беззащитности в страшном имени Божием. Но эти понятия связаны не для всех. Они не связаны для китайцев или древних греков, даже таких великих, как Аристотель и Конфуций.
Связывать Бога с младенцем ничуть не логичней, чем связывать тяготение с котенком. Для нас они связаны Рождеством, потому что мы — христиане по психологии, если не по убеждению. Это сочетание идей, как теперь говорят, меняет в корне нашу природу. Тот, кто знает это, отличается от незнающего. Я совсем не хочу сказать, что он лучше, — мусульманин или еврей могут быть лучше его. Просто в его гороскопе пересекаются две линии; всемогущество и беспомощность, божественность и детство рифмуются для него, и это созвучие не померкнет от тысяч повторений. Да, в Вифлееме поистине сошлись противоположности.
В пещере было положено начало тому, что придает христианству такую человечность. Если бы людям понадобился образец бесспорного, неиспорченного христианства, они бы, наверное, выбрали Рождество. Но Рождество очевиднейшим образом связано с тем, что считают (никак не пойму, почему) спорным и надуманным, — с поклонением Пречистой Деве. Взрослые моего детства требовали убрать из церквей Ее статуи с Младенцем.
После долгих препирательств примирились на том, что отняли у Нее Младенца, — хотя, если рассуждать логически, с их собственной точки зрения, это должно быть еще хуже. Может быть, Мать не так опасна, если Ее обезоружить? Во всяком случае, все это похоже на притчу. Нельзя отделить статую матери от новорожденного ребенка, младенец не может висеть в воздухе, собственно говоря, вообще не может быть статуи младенца.
Точно так же не можем мы подумать о Нем, не думая о Матери. В обыкновенной, человеческой жизни мы не можем прийти к новорожденному, не придя тем самым к его матери; мы можем общаться с ним только через мать. Отнимите Христа у Рождества или Рождество у Христа, иначе вам придется смириться с тем, что святые головы — рядом и сияния их почти сливаются, как на старых картинах.

Григорий Гагарин. Рождество Христово
Можно сказать, как ни грубо это звучит, что в тот час, в той складке или трещине серой горы мир был вывернут наизнанку. Раньше благоговейные и удивленные взоры обращались как бы наружу, с этих пор обратились внутрь, к самому маленькому. Бог был вовне, оказался в центре, а центр — бесконечно мал. С этих пор спираль духа центростремительна, а не центробежна.
Во многих смыслах наша вера — религия маленьких вещей. Я уже говорил, что Предание — и в книгах, и в картинах, и в легендах — отдало дань парадоксу о Боге в яслях. Наверное, меньше говорилось о Боге в пещере. Как ни странно, о пещере вообще говорили мало. Рождество Христово переносили в любую страну, в любую эпоху, в любой ландшафт и город, подгоняли к самым разным обычаям и вкусам, — и, это очень хорошо. Всюду мы видим хлев, но далеко не всюду — пещеру. Некоторые ученые по глупости нашли противоречие между преданием о яслях и преданием о пещере, чем доказали, что не были в Палестине. Им мерещится различие там, где его нет, но они не видят его там, где оно есть.
Когда я читаю, например, что Христос вышел из пещеры, как Митра из скалы, мне кажется, что это пародия на сравнительное изучение религий. В каждом предании, даже ложном, есть суть, есть самое главное. Предание о божестве, появляющемся, как Паллада, в расцвете сил, без матери, без детства, по сути своей не похоже на рассказ о Боге, родившемся как самый простой ребенок и совершенно зависевшем от Матери.
Мы можем отдать предпочтение любому из этих преданий, но не можем отрицать, что они — разные. Отождествлять их из-за того, что в обоих есть скала, так же нелепо, как приравнивать потоп к Крещению, потому что и там и здесь есть вода. Миф Рождество или тайна, пещера играет в нем совсем особую роль — она говорит о том, что Бог наш был бездомным изгоем. Однако о пещере вспоминают реже, чем о других атрибутах Рождества.
Причина проста и связана с самой природой возникшего тогда мира. Нелегко увидеть и описать новое измерение. Христос не только родился на земле — Он родился под землей. Первое действие божественной трагедии развертывалось не выше зрителя, а ниже, на темной потаенной сцене. Почти невозможно выразить средствами искусства одновременные действия на разных уровнях бытия.
Что-то подобное могли изобразить в средние века; но чем больше узнавали художники о реализме и перспективе, тем труднее им становилось изобразить ангелов в небе, пастухов на холмах, сияние в самом холме. Может быть, к этому ближе всего подошли средневековые гильдии, которые возили по улицам вертеп в три этажа, где наверху было небо, внизу ад, а посредине — земля. Но в вифлеемском парадоксе внизу было небо.
В этом одном — дух мятежа, дух перевернутого мира. Трудно выразить или описать заново, как изменила саму идею закона и отношение к отверженным мысль о Боге, рожденном вне общества. Поистине после этого не могло быть рабов. Могли быть и были люди, носящие этот ярлык, пока Церковь не окрепла настолько, чтобы его снять, но уже не могло быть язычески спокойного отношения к рабству.
Личность стала ценной в том особом смысле, в каком не может быть ценным орудие, и человек не мог более быть орудием, во всяком случае — для человека. Эту народную, демократическую сторону Рождества предание справедливо связывает с пастухами — крестьянами, которые запросто беседовали с Владычицей небес. Но с пастухами связано не только это, с ними связано и другое — то самое, о чем я говорил раньше и что замечали нечасто.
Люди из народа — такие, как пастухи, — везде и повсюду создавали мифы. Это они испытывали прежде всех не тягу к философии или сатанизму, а ту потребность, о которой мы говорили, — потребность в образах, приключениях, фантазии, в сказках, подобных поискам, в соблазнительном, даже мучительном сходстве природы с человеком, в таинственной значимости времен года и определенных мест. Они прекрасно поняли, что луг или лес мертвы без повести, а повесть — без героя. Но сухая разумность уже покушалась на неразумные сокровища крестьян, точно так же как рабовладение покушалось на их дома и земли.
Крестьянские сообщества заволакивал сумрак скорби, когда несколько пастухов нашли то, что искали. Повсюду, кроме этого места, Аркадия увядала. Умер великий Пан, и пастухи разбрелись, как овцы. Но, хотя никто об этом не ведал, близился час свершения. Хотя никто об этом не слышал, далеко, в диких горах, кто-то закричал от радости на неведомом языке. Пастухи обрели Пастыря.
То, что они нашли, было очень похоже на то, что они искали. Народ ошибался во многом, но он не ошибался, когда верил, что у святыни есть дом, а божеству ведомы границы пространства и времени. Дикарь, создавший нелепейшие мифы о спрятанном в коробочке солнце или о спасенном боге, которого подменили камнем, ближе к тайне пещеры, чем города Средиземноморья, примирившиеся с холодными отвлеченностями.
Он понял бы лучше, что случилось в мире, чем те, в чьих руках становилась все тоньше и тоньше нить Платонова идеализма или Пифагоровой мистики. Пастухи нашли не Академию и не совершенную республику. Они нашли наяву свой сон. С этого часа в мире не может быть мифов; ведь мифотворчество — это поиски.
Все мы знаем, что народ в рождественских мираклях и песнях одевал пастухов в костюмы своей страны и представлял Вифлеем своей родной деревней. Большинство из нас понимает, как это точно, мудро и тонко, как много здесь христианского, католического чутья. Многие видели грубый деревенский Вифлеем, но мало кто помнит, каким он был у тех, чье искусство кажется нам искусственным. Боюсь, в наше время не всем понравится, что во времена классицизма актеры и поэты одевали пастухов пастушками Вергилия. Но и они были правы. Превращая Рождество в латинскую эклогу, они нащупали одну из самых важных связей человеческой истории.
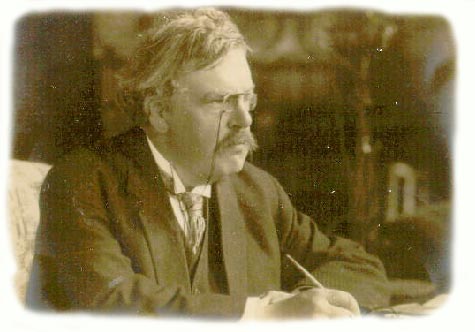
Мы уже говорили, что Вергилий воплотил дух здорового язычества, победившего нездоровое язычество человеческих жертв. Но даже его здравая добродетель заболела тяжелой болезнью, и спасти ее могла только находка пастухов. Если мир устал от безумия, его может спасти лишь здравомыслие. Но он устал от здравомыслия; что же могло излечить его, если не то, что излечило? Не так уж нелепо представлять себе рождественскую радость аркадских пастушков.
В одной из эклог Вергилия принято видеть пророчество о Рождестве. Но и по другим эклогам, по самой интонации великого поэта мы чувствуем: его бы обрадовало то, что случилось в Вифлееме. В строке «Incipe, parve puer, risu congnoscere matrem» звучит что-то большее, чем нежность Италии. Аркадские пастушки нашли бы в этой пещере все то, что было хорошего в последних преданиях латинян; только вместо куклы, сторожащей и скрепляющей семью, они обрели бы родившегося в семье Бога.
И они, и все мифотворцы смело могли радоваться: здесь сбылось не только все мистическое, но и все вещественное в мифах. У мифологии много грехов, но она весома и телесна, как Воплощение. Теперь она могла бы воскликнуть: «Мы видели Бога, и Бог нас видел!» Античные пастушки могли плясать на холмах, посмеиваясь над философами. Однако и философы слышали.
Я не перестану удивляться старой повести о том, как, увенчанные величием царей, облаченные тайной магов, они пришли сюда из восточных стран. Истина, называемая преданием, мудро подарила им безвестность, и они остались для нас таинственными, как их прекрасные имена — Мельхиор, Каспар, Балтазар.
С ними пришел весь мир учености, считавшей звезды в Халдее, созерцавшей солнце в Персии; и мы не ошибемся, приписав им любопытство — перводвигатель ученых. Они могли бы воплощать тот же идеал, если бы звались Конфуцием, Пифагором, Платоном; они были из тех, кто ищет не сказки, но истины. Их жажда истины была жаждой Бога, и они тоже получили свое. Для философов, как и для мифотворцев, Вифлеем восполнил неполное.
Самые мудрые могли бы прийти туда, как и пришли волхвы, и подтвердить то, что было истинного в их учениях, правильного — в их раздумьях. Конфуций нашел бы здесь новые основания семьи, Будда увидел бы отречение от звезд, а не от алмазов — от Божеского, а не от царского сана. Мудрецы имели бы или обрели бы право сказать, что в их учениях есть истина. Но они пришли бы сюда учиться.
Они пришли бы пополнить свои учения тем, о чем и не думали; уравновесить свой несовершенный мир тем, против чего, быть может, возражали. Будда явился бы из безличного рая поклониться Личности. Конфуций оставил бы поклонение предкам, чтобы поклониться Младенцу.
Мы должны понять, что новая Вселенная оказалась вместительнее старой. В этом смысле возникновение христианства шире сотворения мира — того мира, что был до Христа. Христианский мир включает и то, что уже было, и то, чего не было раньше. Хороший пример — китайское почитание старших.
Никто не усомнится, что разумное почтение к родителям входит в Завет, по которому Сам Бог подчинялся в детстве родителям, «был в повиновении у них». Но и они подчинялись Ему, этого не найдешь у китайцев. Младенец Христос не похож на младенца Конфуция — в нашем мистическом чувстве Он останется младенцем навсегда. И я не знаю, что бы делал Конфуций с деревянным младенцем, если бы он ожил в его руках, как ожил он в руках святого Франциска.
В Церкви есть то, чего нет в мире. Мир сам по себе не может обеспечить нас всем. Любая другая система узка и ущербна по сравнению с Церковью; это не пустая похвальба, это — реальность. Найдем ли мы поклонение Младенцу у стоиков или сторонников Конфуция? Найдем ли у мусульман Марию — Мать, не знавшую мужа и славнейшую серафим? Найдем ли у тибетских монахов архистратига Михаила, воплотившего для каждого воина честь меча?
Святой Фома Аквинат привел в систему всю ученость и разумность, и даже рациональность христианства. Аристотель тоже достиг вершин разума, однако Аквинат мог понять самые сложные доводы Аристотеля, но Аристотель вряд ли бы понял мистические отступления Фомы. Даже если вы не сочтете христианского философа более великим, чем языческий, вам придется признать его более широким. То же самое относится и к любой философии, ереси, движению. Что бы делал трубадур Франциск среди кальвинистов или утилитаристов Манчестерской школы? Но Боссюэ и Паскаль не уступали в строгой рассудительности ни кальвинистам, ни утилитаристам.
Что делала бы Жанна д’Арк среди квакеров, духоборов, толстовцев? Но многие наши святые отдали жизнь, проповедуя мир и предотвращая брань. Как ни бьются над этим современные синкретисты, им не удается создать ничего, что было бы шире Церкви. Всякий раз они просто выбрасывают что-нибудь не из Церкви, а из жизни: знамя, или харчевню, или детскую книжку про рыцарей, или плетень в конце поля.
Теософы строят пантеон — но это пантеон для пантеистов. Они созывают парламент вер, думая объединить всех людей, — и объединяют всех умников. Такой самый пантеон был построен у Средиземного моря почти две тысячи лет тому назад, и христианам предложили поставить Христа бок о бок с Юпитером, Митрой, Озирисом, Аттисом, Аммоном. Они отказались, и переломилась история.
Если бы они согласились, и они, и весь мир попали бы в ту тепло-холодную мутную жидкость, в которой уже растворялись мифы и мистерии. Но они отказались — и мир спасся. Мы не поймем, что такое Церковь и почему с давних пор так звенит ее голос, если не поймем, что однажды мир чуть не погиб от широты взглядов и братства всех вер.
Для нас очень важно, что волхвы — мудрецы и мистики — искали нового и нашли то, чего не искали. Ощущение неожиданности живет до сих пор в предании о Рождестве и даже в каждом рождественском празднике. Находка волхвов — как научное открытие. Для других участников этого действа — для ангелов, для Матери, для пастухов и для воинов Ирода — все было, наверное, проще и сверхъестественнее, трогательней и грубее.
Но что искали мудрецы, как не мудрость? Мудрецам нужен свет разума, и они увидели свет. Они увидели, что мудрость церкви объемлет все, а мудрость мудрецов — не все. Если бы Платон, Пифагор и Аристотель постояли хоть минуту в свете, который шел из маленькой пещеры, они бы поняли, что свет их собственных учений — полумрак. Я далеко не уверен, что они об этом не догадывались. Философия, как и мифология, была похожа на поиски.
Именно потому волхвы так таинственны и величавы. Они нашли и открыли, что религия — шире философии и что в маленькой пещере уместилась вся широта религии. Вот почему нас так поражает все, что случилось в пещере. Когда мы читаем или думаем об этом, наши чувства по-детски просты, наши мысли — бесконечно сложны, и мудрость не поможет нам свести концы с концами, если Младенец — Отец, а Мать — Ребенок.
Мифология пришла с пастухами, философия — с волхвами. Но нельзя забывать о третьей стихии — о ней никогда не забывает наша вера и никогда не примиряется с ней. В первых сценах присутствовал враг, испоганивший мифы развратом и обративший мудрость в неверие. Сейчас он отвечал на прямой вызов и сам действовал прямо, а как он действует, мы уже видели. Говоря о сознательном бесопоклонстве, я рассказывал, как ненавидели детей, как приносили людей в жертву, и меньше сказал о том, как культ зла подтачивал исподволь здоровое язычество, отравлял непристойностью поэзию и обращал в безумие царственную спесь.
В вифлеемском действе проявились и прямое, и косвенное его влияние. Правитель, подчиняющийся Риму, возможно, одетый, как римлянин, и живущий по римскому обычаю, почувствовал в этот час, что из глубин его души поднимаются странные страсти. Все мы знаем о том, как Ирод, встревоженный слухами о сопернике, припомнил жестокости азиатских деспотов и приказал перебить всех детей. Каждый знает об этом; но не каждый заметил, как тесно связано это с историей удивительных человеческих верований.
Не каждый заметил, как знаменательна эта бойня рядом с коринфскими колоннами и римскими плитами порабощенного мира, покрытого лоском цивилизации. Когда темная страсть обуяла Ирода, провидец узрел бы за его плечом огромный мрачный призрак, страшную морду Молоха, ожидающего последней жертвы от правителя из Симова рода. На первом пиру христианства на свой собственный лад пировали и бесы.
Если мы забудем об этом, мы не поймем не только сути христианства, но и сути Рождества. Для нас Рождество едино и по-детски просто. Однако, как и все в христианстве, оно и очень сложно. В нем есть и смирение, и веселье, и благодарность, и мистический трепет, и, кроме всего этого, бдение и беда. Это не только праздник миротворцев, как не только праздник весельчаков. Рождество не больше похоже на индийскую мирную конференцию, чем на скандинавский зимний пир.
В нем есть вызов, тот самый, из-за которого звон колоколов так похож на залп победы. Неописуемый дух, который мы зовем рождественским, — словно дым взрыва, прогремевшего в холмах Иудеи почти две тысячи лет назад. Мы и сейчас узнаем его безошибочно, и он слишком неповторим, чтобы определить его словом «мир». По самой своей природе радость в пещере подобна ликованию в крепости или в тайном пристанище изгоя.
Здесь прятались от врага, а враг уже ступал по каменным складкам, нависшим над ними, как небо; копыта Иродовых коней уже гремели над головой Спасителя. Скажу больше: ясли подобны передовому посту лазутчика, который смотрит, притаившись, на вражескую землю. Под башни и дворцы подведен подкоп. Недаром чувствовал царь Ирод, что под ним разверзлась земля.
Наверное, это самая тайная из тайн рождественской пещеры. Люди ищут под землею ад, здесь под землею — небо. Мир перевернулся; с этих пор все великое может действовать только снизу. Король может вернуть корону только мятежом. Церковь, особенно вначале, была не столько властью, сколько мятежом против князя мира сего.
Оптимистов, отождествляющих усовершенствование с удобством, немало раздражает мысль о том, что мы в свое время попали под власть узурпатора. Но именно из-за того, что опасность вполне реальна, Благая Весть стала поистине благой и новой. Олимп неподвижным облаком стоял в небе, мудрость восседала на престоле, когда Христос родился в пещере, а христианство — в катакомбах.
Они прятались под землей — вот он снова, странный и мятежный дух: нашу веру и презирают, и боятся. Пещера — только нора, в которую может забиться всякий сброд; но в ней — сокровище, которое не могут отыскать тираны. Святое Семейство укрылось здесь, потому что хозяин постоялого двора о нем не вспомнил и потому что о нем не забыл царь. То же самое мы вправе сказать и о первых христианах. Их боялись, когда они еще ничего не значили, во всяком случае — ничего не могли.
Тихо, почти тайно они бросили вызов; они вышли из-под земли, чтобы сокрушить землю и небо. Они не собирались разрушать громады из мрамора и золота — они смотрели сквозь них, как сквозь стекло. Христиан обвиняли в том, что они подожгли Рим; но клеветники ближе к сути христианства, чем те, кто считает его каким-то этическим обществом, которое немножко мучили за прописные истины или недолюбливали за безответность.
Ирод играет немалую роль в Вифлеемском действе: из-за его угрозы мы узнаем, что Церковь гонима с самого начала и борется за свою жизнь. Многим покажется, что это как-то несозвучно Рождеству, — но именно так звучат рождественские колокола. Многие считают, что самая мысль о крестовом походе позорит крест — что ж, значит, он опозорен с колыбели. Сейчас я не собираюсь вести отвлеченные споры о том, нравственно ли бороться. Я просто хочу показать, какие понятия входят в нашу веру, и заметить, что все они приняли четкую форму уже в рождественском действе.
Их три, в обычной жизни они глубоко различны, только христианство может их связать. Во-первых, человеку нужно, чтобы небо было определенным и даже уютным, как дом. Поэты и язычники, творя свои мифы, пытались рассказать нам, что бог может обитать в этом, вот этом мифе, что волшебное царство — реальная страна, а возвращение призрака может воскресить тело. Сейчас я говорю не о том, что рационалисты не желали считаться с этой жаждой; я говорю лишь о том, что язычники не могли жить, пока ее не удовлетворят. В истории Вифлеема и позже Иерусалима этого духа не меньше, чем в истории Делоса и Дельфов, но им и не пахнет во Вселенной Лукреция и Герберта Спенсера.
Во-вторых, наша философия шире всех других философий, бесконечно шире учения Спенсера и даже Лукреция. Христианство смотрит на мир через тысячу окон, а древние стоики или наши агностики — через одно. Оно смотрит на жизнь глазами самых разных людей. У него найдется ключ для всех настроений, для всех человеческих типов, ему ведомы тайны психики, бездны зла, оно умеет отличать ложное чудо от истинного, а его тонкость, такт, воображение — многообразны, как реальная жизнь, которую не охватишь заунывными или бодрыми трюизмами древней и новой этики. Многое накопилось в нем со времен Аквината, но и святому Фоме было бы тесно в мире Конфуция или Конта.
И наконец, в-третьих, наша вера не только вещественней поэзии и вместительней философии — в ней есть еще и вызов, есть борьба. Она достаточно широка, чтобы принять любую истину, но не примет заблуждения. Любой человек любым оружием может бороться с нею и за нее; она старается как можно лучше узнать и понять то, против чего борется: но никогда не забывает, что ведет борьбу. Она возвещает мир на земле, но всегда помнит, что была война в небесах.
Эту троицу истин воплотили в рождественском действе пастухи, волхвы и царь, воевавший против младенцев. Просто неверно, что в других религиях и философиях есть это все; нельзя даже сказать, что они на это претендуют. Буддизм, может быть, не менее мистичен, но он и не хочет стать таким же воинственным. Ислам воинствен, но он и не думает стать таким же тонким и возвышенным. Конфуцианство удовлетворяет потребность мудрых в разумности и порядке, но оно и не собиралось удовлетворять тоску по чуду и тайне, по святости конкретных вещей.
Ни один языческий миф или философская притча не трогают нас так сильно, как само слово «Вифлеем». Ни один рассказ о рождении бога или детских годах мудреца не стал Рождеством и даже не похож на него. Он всегда или слишком холоден, или слишком фриволен, или слишком разумен, или груб, или утончен. Слушая его или читая, никто из нас, что бы он ни думал, не ощущает, что пришел домой. Мы можем восхищаться его красотой, или глубиной, или чем-нибудь еще, но не всем сразу.
В том-то и дело, что предание о Рождестве, в отличие от всех преданий, не обращает наши мысли и чувства к величию — к тем исключительным, особенным созданиям, которые зовутся богами и героями, пусть даже самого возвышенного и здравого толка. Оно не гонит нас куда-то вдаль, на край света. Скорее можно сказать, что оно возникает изнутри, встает из тайников сознания; так трогают нас маленькие вещи или тихие добродетели бедных.
Мы находим забытую комнату в глубине нашего дома, открываем дверь — и видим свет; откапываем что-то в глубине сердца — и попадаем в край добра. Сложено это не из того, что мир назвал бы крепким; вернее, крепость в легкости, в невесомости, все это было в нас, но вдруг мимолетное чувство стало вечным.
Это было минутной слабостью, а стало силой и спасением. Несмелая речь и забытое слово окрепли навек, когда волхвы вернулись в дальние страны и умолкли шаги пастухов, а под слоями тьмы и камня осталось то, что человечней человечности.
Продолжение следует…
Источник: Честертон Г. К., Собр. соч.: В 5 т. Т. 5: Вечный Человек. Эссе / Пер. с англ.; Сост. и общ. ред. Н. Л. Трауберг. — СПб.: Амфора, 2000.
http://www.pravmir.ru/bog-v-peshhere/

- Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы получить возможность отправлять комментарии


