Иезуиты и их отношение к России. Юрий Самарин

Письмо 4-е, часть 2-я
+ + +
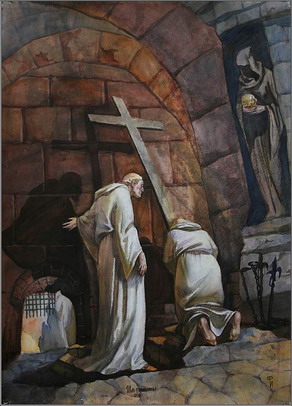
Иезуиты и их отношение к России
Письма к иезуиту Мартынову Ю.Ф. Самарина
Письмо Четвертое
<...> Между тем, в глазах папы, орден все еще считался упраздненным, и варшавские нунции, как при Екатерине, так и при Павле, не переставали громить ослушников и настаивать на исполнении декрета Климента XIV. Наконец, по кончине уже императора Павла, получен был исходатайствованный им декрет Пия VII, от 7 марта 1801 года, которым разрешалось не восстановление, а как бы учреждение вновь общества под названием Иисусова, притом в одной лишь России, а не вне ее пределов, и предоставлялось членам этого общества право законного священнодействия, проповедования, исповедования и совершения таинств.
Этот декрет сообщен был государственным канцлером отцу Груберу, в то время генералу ордена, при отношении от 8 сентября 1802 года, заслуживающем внимания потому, что в нем еще раз, в виде предостережения на будущее время, изложено условие, на котором правительство признавало орден в пределах России и оказывало ему покровительство. «Я докладывал, - пишет канцлер, - Государю Императору о намерении вашем ввести в ваших коллегиях преподавание всех наук на русском языке и позаботиться о том, чтобы в монастырях и коллегиях ваших отнюдь и никогда бы не было допускаемо ничего предосудительного для господствующей церкви. Его Величество надеется, что вы сдержите в точности обещания, вами данные от имени вашего ордена, тем более, что Государю угодно, чтобы в случае их нарушения, а в особенности, если бы дерзнули привлекать к принятию римско-католической веры кого-либо из молодых людей, исповедующих иную веру, поступлено было со всею строгостью. Государь ставит в зависимость от этого непременного условия не только покровительство, оказываемое иезуитскому ордену, но и самое допущение его в пределах России».
Итак, условие со стороны русского правительства было высказано со всею определительностью, а со стороны иезуитов - формально и добровольно принято.
Можно легко представить себе, каким тонким сдержанным смехом залился отец Грубер в день получения этой бумаги, когда, вернувшись к себе домой и запершись в кругу своих, он сбросил маску и стал припоминать данные им обещания, с такою добросовестною уверенностью подобранные его покровителями. Гораздо труднее, при некотором знакомстве с историею иезуитов и с их учением о присяге и обязательствах, объяснить себе добродушную доверчивость правительства, полагавшегося на иезуитское слово; но в то время мы как будто только что начинали жить: все, даже административные предания ближайших екатерининских времен были как бы перерезаны притоком новых, со стороны занесенных к нам понятий; горькие опыты наших предков и наших соседей не имели для нас смысла, и нам приходилось, повторением чужих ошибок, всему учиться сызнова. Эта наука, как мы сейчас увидим, обошлась нам довольно дорого.
Иезуитское общество по своему назначению и, особенно, по своей организации, обречено на строгую неизменность в себе самом - sint, ut sunt, aut non sint (да пребудут каковы суть, или да не будут), - говорил недаром один из генералов ордена. Но эта внутренняя неизменность отнюдь не исключает приспособления средств к обстоятельствам и не мешает обществу являться перед публикою в разных ролях. Напротив, быстрота превращений, способность рекомендовать себя на всякого рода службы и умение выставлять в своей лавочке именно тот товар, на который предвидится усиленный запрос, составляли всегда существенные условия иезуитской тактики. В старину апостолы, которых орден посылал ощупывать Россию, соблазняли наших царей разными титулами и надеждою, через покровительство папы, втереться в общество просвещенных держав; на Западе в XVI веке иезуиты рекомендовали себя правительствам как блюстители единоверия и безпощадные обличители всякого рода ересей; затем они преобразились в снисходительнейших духовников, впускавших в Царство Небесное за самую низкую цену; но все это, наконец, надоело и опротивело. В последних годах XVIII века и в первой четверти XIX боязнь ада и забота о спасении душ уступили место боязни революции и заботе об охранении безопасности царствующих династий. Иезуиты прежде всех смекнули в чем дело и преобразились еще раз. «Вы боитесь революции и не без основания; она вас непременно затопит, если вы не противопоставите ей надежного оплота. Этот оплот - мы. Никто чище нас не охолащивает народов. Мы знаем, чего вы хотите; вам нужны смирные и сносливые подданные; таких мы вам и поставим; вверьте нам только воспитание юношества и спите спокойно». Такого рода речи повели в Берлине, Вене, Париже и Петербурге иезуиты, прямые наследники иезуитов в первой четверти XVII века, провозглашавших начало народного самодержавия и законность цареубийства, и предки тех, которые ныне во Франции и Бельгии распинаются за неограниченную свободу ассоциации и преподавания.
На этом предпоследнем их превращении застала их Екатерина II. К концу ее царствования в правительственных сферах некоторых из немецких и итальянских государств они успели прослыть опорою политического консерватизма, а мы, забыв времена самозванцев, не умудрившись даже примером Польши, в наших глазах заеденной этими мнимыми оберегателями династических интересов, поверили, без дальних справок, свидетельству их о себе самих.
Иезуиты - заклятые враги революции и неподкупные стражи престолов - эта тема нередко мелькала в указах императора Павла и в официальной переписке наших государственных людей времен Александра I. Успешнее и настойчивее всех, со свойственной ему резкостью выражения, часто доходившею до цинизма, проводил ее главный руководитель иезуитов и тайный агент папы в России, в то же время советник и наставник наших министров, кумир высшего петербургского общества, по официальному своему положению - поверенный сардинского короля при нашем дворе, а по направлению всей своей деятельности, политической и литературной, своего рода enfant terrible (сорванец - Сост.) ультрамонтантства - граф Иосиф де-Местр. Он писал, между прочим: «Иезуиты - это сторожевые псы верховной власти; вы не хотите дать им воли грызть воров, тем хуже для вас; по крайней мере, не мешайте им лаять на них и будить вас». Переписка графа Местра с русским министром народного просвещения графом Разумовским, из которой извлечены эти строки, представляет для характеристики того времени неоцененный материал. Она началась по поводу ходатайства генерала ордена Бржозовского об освобождении Полоцкой коллегии от контроля Виленского учебного округа. К обычным истасканным и избитым аргументам в пользу педагогической системы иезуитов граф Местр присоединил новые, приспособленные к понятиям той среды, которую он обращал. «Неужели вы не понимаете, - восклицает он, - что всякий полк знает своего полковника и счел бы себя оскорбленным, если б вздумали подчинить его стороннему командиру? Полковое учение производится в виду всех, открыто, на плацу, и, если окажется, что маневры идут дурно, пусть вводят порядок генерал-инспекторы, на то назначенные от государя; но, под предлогом единства, отнимать у безукоризненного, прославившегося полка (т. е. иезуитов) право иметь свое начальство, подчинять этот полк и всех его командиров какому-нибудь капитану мещанской полиции, от роду не владевшему шпагою, это было бы до крайности забавно, а по последствиям было бы даже гибельно... Ставят иезуитам в упрек вмешательство их в дела политики. Да чем же они виноваты? Разве не властен государь, если вздумает, поручить управление государством офицерам своей гвардии? Они, разумеется, должны бы были исполнить его приказание. И за это впоследствии стали бы их уличать в интригах и требовать упразднения гвардии? Это просто безумие». Далее, вот что предлагает граф Местр русскому министру народного просвещения: «На что вам наука? Наука творит людей сварливых, самоуверенных порицателей правительств, поклонников всякой новизны, презрительно относящихся ко всякому авторитету и к народным догматам... Вы окажете, граф, величайшую услугу вашей родине, если внушите добрейшему русскому государю великую истину, а именно вот какую: Его Величеству поистине нужны только двоякого рода люди: храбрые и честные; остальное не нужно и придет само собою. Наука, по самому существу своему, при всякой форме правления, годна не для всех, даже не для всех принадлежащих к высшим сословиям. Например, военным (то есть 8/10 русского дворянства) отнюдь не подобает быть учеными. Да и большинство, особенно в высших слоях общества, никогда не захочет прилежно заняться науками. Поверьте, нет такого юноши в русском дворянстве, который бы не согласился охотнее сделать три похода и принять участие в шести генеральных сражениях, чем вытвердить греческие спряжения...»
А вера? «К чему толковать о вере, - продолжает граф, - правда, иезуитское общество крепко стоит за свою веру, да ведь по отношению к догматам она почти тождественна с вашею; к тому же никто никогда не только не обвинял, но даже не заподозривал иезуитов в самой легкой нескромности в отношении к местным законам; они уважают их как следует. И такому обществу не доверяют!» Расходившись, граф Местр дошел вот до чего: «Мы поставлены, как громадные альпийские сосны, сдерживающие снежные лавины: если вздумают нас вырвать с корнем, в одно мгновение все мелколесье будет занесено». Так иезуиты оберегали русскую церковь!
И это все принимал к сведению, по крайней мере, выслушивал русский министр народного просвещения! Мы не знаем, что он отвечал, не знаем даже отвечал ли что-нибудь; но доказательством его безпримерного долготерпения служит одно уже то обстоятельство, что переписка длилась довольно долго (всего сохранилось пять писем по поводу Полоцкой коллегии) и все в одном тоне. Тон этот, как одно из знамений того времени, сам по себе назидателен. Поверенный иностранной державы, притом еще иноверец, впутывается в вопрос внутреннего управления, тесно связанный с интересами чуждой ему церкви; при этом он берется за дело не как ходатай, а как власть имущий, не просит, а обличает и тянет к ответу. Он подступает к русскому министру народного просвещения, уставив в него строгий начальнический взгляд, хватает его за ворот, трясет, поднимает с министерских кресел, садится на его место и, поставив его перед собою, как школьника, читает ему нотацию о том, что для России нужно и что не нужно, как управлять русскими: чему их учить или, точнее, чему их не учить.
В это же время министр иностранных исповеданий князь А. Н. Голицын, ближайший советник и друг императора, получил от подчиненного ему генерала иезуитского ордена записку такого содержания: «Ваше превосходительство усмотрите, что вам не много будет дела до монахов иезуитского ордена; ваша обязанность, в отношении к ним, ограничится выслушиванием их просьб, буде встретятся дела, по которым введение или исполнение чего бы то ни было потребовало бы разрешения правительства, и принятием от них жалоб, если бы белое духовенство вздумало каким бы то ни было образом досаждать им».
А между тем ни государь, ни ближайшее его окружение не питали к иезуитам никакого сочувствия. Граф Местр свидетельствует даже, что император Александр был предубежден против них более, чем кто-либо из современных ему государей; казалось бы, что и религиозное настроение князя А. Н. Голицына, каково бы оно ни было само по себе, должно бы было, при некоторой логической последовательности, по крайней мере, оградить его от их влияния; и несмотря на все это, в первые годы царствования императора Александра иезуиты заговорили у нас таким голосом, какого, конечно, не потерпел бы ни Филлипп II, ни Людовик XVI. Вся сила их заключалась в духовном безсилии той среды, в которой они действовали. Здесь, то есть в высших слоях петербургского общества и, разумеется, только здесь, все им благоприятствовало.
С самого начала своей революции Франция сдала России целую толпу эмигрантов, которых мы, по своей привычке, приняли с распростертыми объятиями; иным из них удалось дослужиться до высоких чинов и видных должностей, другие приютились в семьях высшего дворянства в качестве нахлебников, третьи - в качестве гувернеров и учителей; последние дали тон домашнему воспитанию и наложили свою печать на целые поколения. Таким образом, почва была подготовлена для иезуитского сева. В те времена план воспитания для русского дворянина составлял по просьбе родителей какой-нибудь аббат Николь; ему же поручалось и приискание наставника; этот наставник учил всему, разумеется, по-своему, в крайности, даже и русскому языку. Какое место в таком воспитании отводилось русской истории и Православной Церкви, нетрудно себе представить. По чувству приличия, для прохождения краткого катехизиса приглашался приходский священник; но гувернер поглядывал на него косо, по окончании урока совал ему в руку билет и выпроваживал его из дому. Отсюда до отдачи мальчика в иезуитский пансион был один шаг.
Почти в одно время с эмигрантами обломки польской аристократии, собравшиеся в тесную группу около князя Чарторыйского, всплыли на поверхность и заняли видное место в правительственных сферах и в высшем петербургском обществе. Все это тянуло одно к другому, сближалось естественно, даже без преднамеренной стачки, и не только не распускалось в русской среде, а напротив, мало-помалу окрашивало ее в свой цвет. Само собою разумеется, что эта среда подчинялась не одним латинским влияниям. Отверстая для всего и ко всему восприимчивая, она проникалась еще охотнее либеральными стремлениями, совершенно искренними, но безплодными по своей отвлеченности, и с особенною любовью лелеяла туманные мечты о каком-то будущем духовном единении племен и правительств, в безразличном равнодушии ко всем формулам веры. Всякое, со стороны занесенное, учение, политическое или религиозное, всякая фантазия, всякий призрак могли, до известной степени, рассчитывать на успех и внушать сочувствие. Конечно, одно с другим не клеилось, но все вместе ускоряло разложение народных стихий, издавна начавшееся в нашем дворянстве. Таково свойство внутренней пустоты при легкой восприимчивости. По-видимому, все сияло благонамеренностью; зародыши всевозможных благих начинаний носились в общественной атмосфере; а между тем живое, народное самосознание гибло. При сильно развитом государственном патриотизме терялся народный смысл: историческая память была как бы отшиблена; непосредственное ощущение всего пережитого прошедшего в каждой минуте настоящего было утрачено; народный язык сделался как бы чужим, своя вера упала на степень всякой иной веры.
О вере в те времена рассуждали таким образом: все вероисповедания одинаково хороши - это был основной догмат передовых людей. «Следовательно, все одинаково дурны, - договаривали иезуиты, - и в сущности у вас нет определенной веры». В этом иезуиты были правы. На латинца, который бы вздумал перейти в православие, высшее общество взглянуло бы так же неблагосклонно, как и на православного, переходящего в латинство. И тот и другой, в его глазах, прослыли бы отступниками; мало того, оно нашло бы для второго обстоятельства, смягчающие вину - в обаянии высшей цивилизации и в искренности убеждения, заявленной смелостью поступка. Этот взгляд из общественной среды перешел в правительственную и прослыл терпимостью. Но под терпимостью подразумевалась не воздержанность от всякого правительственного вмешательства в дела совести и область веры, а напротив - вмешательство постоянное и кропотливое, только не в пользу какого-нибудь одного вероисповедания, а в пользу, или точнее, во вред всем, вмешательство во имя безразличия всех исповеданий.
«Удивительно, - писал министр духовных дел иностранных исповеданий митрополиту Сестренцевичу, - как это иезуиты не могут оставить в покое православных и лютеран? Ведь мы же подаем им пример, не позволяя даже господствующей церкви переступать свои пределы и посягать на другие вероисповедания». Понятно, что не свободе служила такого рода терпимость; напротив, она безсознательно умерщвляла духовную жизнь и рано или поздно должна была обратиться в пользу какой-нибудь хитрой и смелой пропаганды, избавив ее заранее от всякого честного противодействия.
И в эту-то дряблую и рыхлую среду, безсильную духом, оторванную от народной и церковной почвы, питавшей ее вещественно и духовно, врезались иезуиты с их строго определенным учением, во всеоружии многоиспытанной своей диалектики и вековой педагогической опытности. С какой стороны могли они встретить отпор? Со стороны ли последних монументальных обломков людей екатерининских? Но Шишков, Державин, Сестренцевич и немногие другие, уцелевшие от тех времен, угрюмо посматривали на новые порядки, не понимали их и не имели в них голоса. Со стороны ли нашего духовенства? Но в те гостиные, где царствовали иезуиты и где граф Местр доказывал, что православная церковь отложилась от римской и казнена растлением, наших священников не пускали; да притом, им ли, застенчивым, неловким, неопытным в управлении дамскими совестями, неспособным даже выслушать исповеди на французском диалекте, им ли было вступать в споры и выдерживать состязания, на которых судьями были бы князья и княгини, графини и графы, подкупленные вкрадчивым красноречием иезуитов и очарованные галантерейностью их обращения?
Дело обошлось не только без борьбы, даже без отпора. Дворянские души и дворянские капиталы сами собою устремились в раскинутые сети, так что необыкновенная легкость успехов иезуитской пропаганды удивила самого графа Местра и заставила его призадуматься. При всей безконечной глубине своего презрения к русской знати, которого он и не принимал на себя труда скрывать, такие результаты казались ему чудесными.
Припомним вкратце внешнюю, официальную обстановку иезуитов в те времена. По учреждении министерств все административные дела латинской церкви перешли из Духовной римско-католической коллегии в особое Ведомство иностранных вероисповеданий, порученное князю А. Н. Голицыну. Эта перемена смутила самого Сестренцевича, а граф Местр пришел от нее в ужас; но он скоро ободрился и увидел, что все пошло к лучшему - для иезуитов. О князе Голицыне он писал: «Уважаю его безконечно как дворянина, как человека честного, умного, светского, как верноподданного, но во всем том, что бы надлежало ему знать, чтоб нас, т. е. латинскую церковь, понимать, об нас судить и управлять нами, он смыслит столько же, сколько десятилетний ребенок». Впрочем, и прежние действия нового начальника в то время, когда он был прокурором Святейшего Синода, кажется, могли успокоить покровителей латинства. Известно, что по возвращении из ссылки митрополит Сестренцевич, присмотревшись к крайнему расстройству вверенного ему управления, изготовил для поднесения государю подробный об этом доклад; но одному из членов Духовной коллегии, преданному душою иезуитам, удалось подкупить писаря, добыть копию с подлинной записки и предупредить ее действие, вручив государю возражение, в котором Сестренцевич выставлен был властолюбцем. Возражение было подано и подкреплено князем Голицыным, безсознательно послужившим орудием иезуитской интриги. Очень скоро вверенная ему часть утратила всякую инициативу и превратилась в простое агентство латинского духовенства, а он сам подчинился влиянию генерала иезуитского ордена Зборовского. Князь Голицын писал ему: «То, что нac с вами связывает - божественно» (се qui nous unit est divin). Тут намекалось на какое-то таинственное, мистическое душевное сродство, и иезуит, конечно, не находил причины колебать в своем начальнике эту уверенность его во взаимном их обожании.
Выше было упомянуто, что при восстановлении Виленского университета учебному округу поручен был на общем основании надзор над всеми местными учебными заведениями, не исключая и иезуитских. Им захотелось от этого освободиться и, благодаря назойливости и ловкости своего ходатая, графа Местра, они достигли своей цели и получили даже то, на что в начале не смели и надеяться. По представлению министра народного просвещения, графа Разумовского, Полоцкая их коллегия была возведена на степень академии, то есть высшего учебного заведения; ей были предоставлены все права и привилегии университетов, наконец, все вообще иезуитские училища были подчинены ей непосредственно. Таким образом, у нас образовался новый учебный округ, иезуитский, обнимавший собою всю Россию.
Около того же времени министр внутренних дел князь Кочубей входил с представлением о разрешении иезуитам обращать в свою веру магометан и язычников. Херсонский генерал-губернатор герцог Ришелье вымаливал себе у князя Голицына партию иезуитов для местных колоний и вообще для просвещения края; сибирский генерал-губернатор Пестель требовал их также к себе для сношений с Китаем и для развития земледелия; их усердный покровитель и агент, Ильинский, водворял их на Волыни; маркиз Паулуччи тянул их в Ригу, граф Ростопчин звал их в Москву, а дети лучших фамилий ломились в их Петербургский пансион, без всякого на то разрешения, основанный ими для русских дворян. Все это вскружило им голову, и уверенность их в отсутствии чего- либо для них невозможного дошла до того, что они вошли с просьбою о передаче им Симферопольской соборной православной церкви и завели между собою переписку о том, что пора бы вовсе не допускать русских священников в русский пансион и совершенно устранить их от преподавания православного катехизиса.
Теперь посмотрим на результаты иезуитской деятельности в России. При императоре Павле латинская церковь в Петербурге была передана в их заведование, а в начале царствования императора Александра прихожане этой церкви подали просьбу об их удалении, показывая между прочим, что иезуиты запрещали им исповедоваться у прежних их духовников и допустили умереть без причастия многих, не хотевших исповедоваться у новых, непрошеных и вопреки их желанию навязанных им пастырей.
Иезуиты громко прославляли свою систему воспитания, уверяя, что она обратит юношество Западного края в надежнейших и вернейших подданных государя; между тем, часть воспитанников Полоцкой их академии, при вступлении Наполеона в Россию, перешла в его армию.
Они расточали перед правительством уверения в безграничной своей благодарности и, на словах, молили Бога даровать им случай доказать ее, а в 1812 году, когда, за отсутствием другого помещения в загроможденном городе, несколько русских раненых солдат положено было в полоцком академическом здании, они немедленно подали протест и потребовали, чтобы им не мешали в их занятиях.
В России и за границею они распускали молву о своих подвигах в наших дальних колониях на развитие просвещения и материального благосостояния местных обывателей, а главный судья попечительной конторы над саратовскими колонистами свидетельствовал, что благодаря вмешательству иезуитов хозяйственный быт колоний латинского вероисповедания приходил в упадок сравнительно с протестантскими. Подтверждая этот факт, инспектор немецких колоний Лашкарев прибавлял, что из приходо-расходных книг он убедился, что большая часть общественных доходов поглощалась содержанием иезуитов. Единовременно генерал-губернатор сибирский писал князю Голицыну: «Присмотревшись ближе к действиям священников ордена, я, наконец, убедился, что они вовсе не оправдали надежд, возбужденных при их водворении в Сибири, и что до сих пор край не получил от них ни малейшей пользы».
Иезуиты, в хозяйственном отношении, были у нас обеспечены с избытком. Лавки и всякого рода заведения, состоявшие при переданной им Петербургской церкви, давали значительные доходы; в Белоруссии они владели недвижимыми имениями с приписанным к ним населением в 13500 с лишком душ; в одной Могилевской губернии - девятнадцатью мельницами и тридцатью тремя постоялыми дворами; наконец, не считая ни доходов от других церквей, ни добровольных приношений, они, продолжая восхвалять безвозмездность своего служения, получали от казны денежное содержание и поземельные наделы в размерах, далеко превышавших положение для православных священников [i]. При всем этом, их крепостные крестьяне терпели голод, а слепые и увечные целыми партиями бродили по окрестностям Петербурга, собирая подаяние.
Иезуиты не упускали ни одного случая закинуть камень в светские учебные заведения и заподозрить не только дух их преподавания, но и самую их нравственность; между тем, вот что пишет граф Толстой на основании иезуитских документов: «Чувство приличия не позволяет нам распространяться о противохристианских и даже противоестественных поступках некоторых из иезуитов, ни о постыдных пороках, господствовавших в их училищах; но мы считаем своею обязанностью заявить, что, если кто-нибудь из членов общества вздумает заподозрить правдивость нашего свидетельства, то мы будем вынуждены представить на суд публики подлинные документы, содержащие в себе неопровержимые доказательства гнуснейших дел, содеянных иезуитами». Книга графа Толстого вышла в Париже в 1864 году, но, сколько мне известно, никто доселе не принял его вызова; а это было бы гораздо доказательнее голословных заявлений вроде того, что иезуиты носят имя Иисусово, приносят безкровную жертву и сами ничего предосудительного о себе не рассказывают.
Наконец, иезуиты торжественно обязались воздерживаться от всякой пропаганды между православными и самым наглым образом нарушили свое слово. Не упоминая о многих других, они совратили, в глазах графа Ростопчина, его жену и в глазах своего покровителя, князя Голицына, несовершеннолетнего его племянника. Вы скажете, что пропаганда - назначение иезуитов и что следовало это предвидеть. Правда, но зачем же было давать слово, вопреки своему назначению? Вы скажете, что иезуитское слово не вяжет иезуитской совести и что вольно же было этого не знать - вы и в этом правы; но не удивляйтесь, что наведя справку и узнав, наконец, хотя и поздно, каких людей оно у себя приютило, правительство одумалось и показало им путь навсегда.
Вы утверждаете, что поводом к четвертому и последнему изгнанию иезуитов послужило будто бы «не иное что, как совращение православных в католическую веру», и советуете редактору «Дня», чтобы убедиться в этом, перечитать указ об их удалении. Позвольте и мне присоветовать вам перечитать кстати все четыре указа об удалении их из Петербурга и о закрытии их училища, от 20 декабря 1815 года, о распределении имущества и о долгах [ii], оставленных ими в Петербурге, от 25 мая 1816 г, и, наконец, о высылке их из России от 13 марта 1820 г. При самом беглом чтении вы удостоверитесь, что кроме совращений, на иезуитов падали и другие обвинения; а если вы захотите вникнуть в смысл высочайше утвержденного доклада министра духовных дел, то вы усмотрите, что иезуиты вызвали против себя негодование правительства и общества не пропагандою латинства вообще, а обстоятельствами, ее сопровождавшими: нарушением данного слова, употреблением во зло доверенности родителей, на слово отдававших им своих детей, наконец, вообще,средствами, употребленными ими в дело. Вы могли видеть из предыдущего, что я не принадлежу к числу безусловных поклонников александровской эпохи; но я отдаю справедливость людям того времени. При всей шаткости их понятий и неустойчивости их направления, они не терпели притворства, не мирились с обманом и ненавидели подлость: чувство чести и гражданской честности было в них живо и сильно развито. Это именно чувство и заговорило против иезуитов. Оно не вынесло их воровских приемов. Я произнес слово жесткое и не беру его назад. Пусть рассудят читатели, вправе ли я был употребить его. Иезуит, аббат Сюрюж, писал одному из своих собратьев о графине Ростопчиной, которую он совратил: «Несмотря на строгий мой запрет и несмотря на все мои увещания, она поведала тайну своему мужу... Этот необдуманный поступок срезал меня с ног». Он в другом письме объяснил следующее: «Зная край, я, из предосторожности, не возбуждаю рвения, а только направляю его, и в результате всегда оказывалось, что руководимые таким образом сами собою приходили к желанному концу. В сношениях моих с потаенною моею паствою (mes ouailles secrétes) затрудняет меня более всего не исповедь, а приобщение. Исповедовать я могу во время гулянья, в гостиной, на людях, не возбуждая ни малейшего подозрения, но приобщая, я подвергаюсь гораздо большей опасности. Поэтому я просил бы вас сообщить мне ваше мнение об одном моем изобретении. Я придумал устроить серебряный ларчик, в который бы можно было укладывать святые дары (следует подробное описание его устройства и наставление как проносить его накануне в комнату причастника для того, чтобы он мог на другой день поутру, после обычной молитвы, приобщиться наедине). Таким образом, - продолжает изобретатель, - устранились бы, я думаю, все неудобства тайного приобщения».
Не забудьте, что в то время, как эти средства придумывались и приводились в исполнение, граф Местр писал и заверял, что иезуиты действуют всегда открыто и гласно или, как он выражался, маневрируют на площадях. Вы тоже в вашем письме повторяете «что иезуиты действуют среди белого дня, открыто». И после этого вы хотите, чтобы мы им верили на слово? Оставалось ряд этих проделок повершить отпирательством. Когда огласилось совращение молодого князя Голицына, иезуиты перепугались и поспешили заявить, что они не только не подговаривали его к переходу в латинство, а напротив, всеми мерами отклоняли его от этого. Вот как происходило дело, по их словам. Иезуит, гувернер князя, почему-то засунул в печь свой латинский часослов и как-то позабыл о нем, а молодой воспитанник его какими-то судьбами напал на книгу и почему-то впился в нее. Очевидно, тут действовали не люди, а благодать Божия! Но все это мелкое лганье бледнеет и исчезает перед уверениями орденского генерала Бржозовского. По высылке иезуитов из Петербурга, он написал государю: «Что касается лично до меня, то я никогда не отступал от высочайшего указа, воспрещающего кого-либо из русских привлекать в католическую веру; я даже неоднократно внушал моим подчиненным соблюдать его во всей строгости, и, сколько мне известно, никто из них не нарушал его. Ваше Императорское Величество сами в этом убедитесь, по миновании настоящего кризиса, и во всяком случае можете быть уверены, что у Вас нет в России подданных, более иезуитов послушных, верных и почтительных». Три года спустя государь проезжал через Оршу. Бржозовский не посмел к нему явиться, но в прошении, поданном им начальнику штаба, повторил следующее: «Я постоянно запрещал священникам моего ордена заниматься прозелитизмом в России и говорить о вере с русскими. Если кто-нибудь из иезуитов нарушил этот запрет, я заявляю, что это было без моего ведома, и умоляю Ваше Императорское Величество не вымещать на целом обществе вины одного лица».
Мне жаль, что нас разделяет такое огромное расстояние; если б я имел удовольствие быть с вами в одной комнате, я попросил бы вас на минуту отступить от орденского устава, то есть поднять глаза и сказать мне ваше мнение: правду ли говорил генерал ордена или безстыдно лгал, уверяя, что он запрещал своим подчиненным даже говорить с русскими о предметах веры и что он ничего не знал о совращениях?
Повествование свое об удалении иезуитов из России историк ордена Кретино-Жоли оканчивает следующими словами: «Род Романовых многим был обязан иезуитскому обществу (?!). Некоторые из членов его, против их желания (?), посвящены были Екатериною II и Павлом в разные тайны, семейные и государственные, и все-таки иезуиты допустили сына императора Павла удалить себя из России; они спокойно побрели в изгнание и не захотели прибегнуть к мести, которая была бы для них легка».
Само собою разумеется, что все это ложь; никто никаких тайн иезуитам против их желания не вверял, и сведениями, выкраденными ими из России, они обязаны, конечно, собственному, долговременною практикою приобретенному, умению подслушивать и выглядывать; но не в том дело. Предположите на минуту, что иезуиты невзначай проговорились правдою, и вникните в значение этой самоаттестации в скромности: мы могли отомстить, огласив вверенные нам тайны, и мы смолчали; это выставляется как подвиг! Такая грозою подбитая похвальба лучше всего определяет нравственный уровень общества.
Теперь подведем итог под эту длинную историческую справку. Вы говорите: Екатерина, прозванная Мудрою, приютила в России иезуитов в то время, как вся Западная Европа их преследовала и выбрасывала; а я дополняю вашу ссылку: Петр I, прозванный Великим, застал иезуитов в Москве и выгнал их; Екатерина, прозванная Мудрою, дозволила им остаться в Белоруссии под условием ослушаться папы и перейти на ее службу; Павел I, никак не прозванный, принял их под особенное свое покровительство и испросил у папы восстановления ордена в России; император Александр, прозванный Благословенным, осыпал их милостями и дал им полную возможность развернуться на просторе, но затем, узнав их короче, выпроводил их сперва из обеих столиц, а затем из России, и навсегда. Всего же с 1606 по 1820 год насчитывается пять изгнаний, кругом по одному изгнанию на каждое сорокалетие. Рассудите сами, что можем мы извлечь из нашего собственного исторического опыта.
На этом я мог бы остановиться, но мне остается дополнить этот беглый обзор наших отношений к иезуитам одною, хотя и мелкою, чертою, однако не лишенною для нас интереса современности. Вы помните, что граф Местр испрашивал для иезуитов права исправлять полицейскую службу или, как он сам выражался, права лаять на людей, если уж нельзя их грызть. Вы помните также, что еще до приезда графа Местра отец Груббер успел облаять митрополита Сестренцевича. Теперь вы увидите, что и по удалении иезуитов из России, после того, как правительство положительно и навсегда отказалось от их службы, лай, на сей раз действительно безвозмездный, не прекратился.
В 1840-х годах приехал в Москву, после долговременного пребывания в Париже, один из ваших собратьев, иезуит из русских, притом москвич, принадлежащий к одной из лучших наших дворянских фамилий, один из тех, которыми, по вашим словам, гордится Россия. Разумеется, он перешел в латинство и вступил в иезуитский орден тайно; никто в России об этом не знал, кроме одного из его друзей и товарищей его детства. Он ехал домой с намерением ощупать почву, узнать настроение разных сословий и, по возможности, связать опять порванные нити латинской пропаганды. Покойный Чаадаев, принадлежавший по своему направлению к школе гр. Местра, обрадовался подкреплению и ввел вашего собрата в общество московских ученых и литераторов. В то время оно распадалось на два кружка, так называемых западников и так называемых славянофилов. Первый и многочисленнейший группировался около новоприбывших из-за границы профессоров Московского университета и представлял собою отражение, в малом размере, господствовавшей в то время в немецком ученом мире правой стороны гегелевой школы. В другом кружке вырабатывалось мало-помалу воззрение православно-русское, впоследствии выразившееся в трудах вам, вероятно, известных. Представителями его были Хомяков и Киреевские (припоминая эти давнопрошедшие времена, я брожу как на кладбище).
Оба кружка не соглашались почти ни в чем; тем не менее ежедневно сходились, жили между собою дружно и составляли как бы одно общество; они нуждались один в другом и притягивались взаимным сочувствием, основанным на единстве умственных интересов и на глубоком обоюдном уважении. При тогдашних условиях полемика печатная была немыслима, и, как в эпоху, предшествовавшую изобретению книгопечатания, ее заменяли последовательные и далеко не безплодные словесные диспуты. Споры вертелись около следующих тем: возможен ли логический переход, без скачка или перерыва, от понятия чистого бытия, через понятие небытия, к понятию развития и бытия определенного (от sein, через nicht, к werden и к dasein)? Иными словами, что правит миром: свободно творящая воля или закон необходимости?
Далее: как относится Православная Церковь к латинству и протестантству: как первобытная среда начального безразличия, из которой, путем дальнейшего развития и прогресса, вышли другие, высшие формы религиозного миросозерцания, или как вечно пребывающая и неповрежденная полнота откровения, подчинившегося в Западном мире латино-германским представлениям и вследствие этого раздвоившегося на противоположные полюсы? Наконец: в чем заключается разница между русским и западноевропейским просвещением, в одной ли степени развития или в самом характере просветительных начал? Предстоит ли русскому просвещению проникаться более и более не только внешними результатами, но и самыми началами западноевропейского просвещения или, вникнув глубже в свой собственный, православно-русский духовный быт, опознать в нем начало нового, будущего фазиса общечеловеческого просвещения? Как отвечали на эти вопросы так называемые западники и как отвечали на них так называемые славянофилы, объяснять нет надобности.
В Rue des postes N 18, вероятно, покажется странным, что люди русские могли в продолжение нескольких лет интересоваться подобными темами; еще невероятнее покажется, что люди неглупые могли так долго жить и жить умственною жизнью, в области отвлеченного умозрения, повернувшись спиною к вопросам политическим. Между тем, это несомненно. Я заявляю факт, заявляю его печатно, в такое время, когда еще живы некоторые из тогдашних деятелей, и смело ссылаюсь на их свидетельство.
О политических вопросах никто в то время не толковал и не думал. Это составляло одну из отличительных особенностей московского учено-литературного общества сороковых годов, которой не могли объяснить себе люди предшествовавшей эпохи. Они прислушивались и в недоумении пожимали плечами.
Ваш собрат принят был в так называемый славянофильский кружок с полным радушием. Таить было нечего, и никому бы в голову не пришло остерегаться. К тому же его общительный характер и живость располагали в его пользу и нравились всем. Он придирался к православной церкви, о которой не имел ни малейшего понятия, сыпал направо и налево выдержками из сочинений гр. Местра и отца Розавена, проповедовал свое парижское латинство новейшего покроя открыто, свободно, ничем не стесняясь и, разумеется, без всякого успеха. Не ему было тягаться с Хомяковым. Скоро он это понял и уехал обратно в Париж, не успев даже раздать каких-то навезенных им чудотворных медалей. Там огласился его переход в латинство, и сношения его с Москвою прервались; по крайней мере, Москва потеряла его из виду.
Спустя лет шесть или семь, кажется, в 1850 или 1851 году, в Париже появилась книга [iii], посвященная вопросу о большей или меньшей вероятности обращения России в латинство. Автором ее был тот же ваш собрат. Сама по себе она замечательна только как признак крайней непроизводительности иезуитского воображения; в ней повторялись давным-давно выветрившиеся софизмы графа Местра с примесью нескольких, произвольно выхваченных и, разумеется, перетолкованных фактов; но все это служило только поводом или предлогом воспользоваться тогдашним настроением России. Книга вашего собрата появилась в очень для нас памятную эпоху, когда мы почему-то заразились чужим испугом и «убоялись страхом великим идеже страха не бе». Кто раздувал этот безотчетный, слепой и в то же время злобный страх, тот мог надеяться на успех. Ваш собрат это знал и указал пальцем на славянофилов как на кружок, в котором будто бы вырабатывалась русская национальная формула революционной идеи. Я знаю, что в те времена и у нас ходили такие же бредни; но они распускались людьми, не знавшими тех, кого они подозревали, или неспособными понимать их. Не таков был ваш собрат; по прежним личным своим связям он знал и, насколько был умственно развит, - понимал.
Для него нет оправдания в неведении. Что ж могло побудить его к заведомо фальшивому доносу? Ревность ли по доме Божьем, избыток ли христианской любви, сознанная ли несовместимость иезуитства с направлением мысли православно-русским или просто приказ начальства? Охотно принимаю последнее объяснение. Да, рукою его водила в то время не его личная воля; писал не человек, а труп, покорный жезл в чужой руке (per-inde ас si cadaver vel baculus).
Над жалкою его книгою и над поступком автора покойный Хомяков в одной из своих брошюр сотворил суд и совершил казнь.
Вы эту книгу перевели на русский язык... Для кого? Не знаю; для той русской публики, про которую она писана, французский подлинник был бы понятнее. Не знаю также, сохранили ли вы то место, где говорится о наших революционных замыслах?
Один из новейших проповедников и писателей вашего общества в 1844 году предъявил смелое требование: j'oserais demander que l`on consentit á croire que nous so-mmes des hommes comme les autres et que nous n'avons abliqué vraiment ni la dignité ni la liberté d'un esprit raisonnable[iv]. Вы повторяете за ним и еще решительнее: «До сих пор я полагал, что у нас совесть та же самая, какая была до вступления в общество и такого же свойства, как и у всех прочих людей».
Что сказать на это? Без подразумеваемой оговорки, я не мог бы согласиться ни с Равиньоном, ни с вами. Позвольте мне лучше смолчать.
[i] В Саратовской губернии и Новороссийском крае из одного государственного казначейства, не считая доходов из общественных сумм, на приход от 300 до 600 р. сер. и от 50 до 120 дес. земли; в Сибири на приходского священника - от 750 до 1800, на викария - от 250 до 300 р. (Прим. Ю.Ф. Самарина.)
[ii] По высылке иезуитов из Петербурга насчиталось на них более 400 т < ысяч > р < ублей > долга; наличных денег, разумеется, не нашлось; но оказалось, что часть долгов была вымышлена и что часть показанных заимодавцев не объявила претензий; правительству пришлось, однако, принять на себя уплату за иезуитов половины показанных долгов, то есть более 200 т < ысяч > р < ублей >. В такую же сумму обошлась казне отправка иезуитов за границу. В бумагах иезуитов нашлась интересная рукопись: история общества иезуитского в России с 1772 по 1801. По свидетельству графа Толстого, в ней было 144 страницы; она содержала в себе обстоятельный перечень всех происшествий, относившихся до иезуитов, и всю их переписку с нашими министрами и с римским двором. Рукопись эта пропала. Как вы думаете, кто более всех заинтересован был в ее похищении? Я думаю, не жансенисты ли?(Прим. Ю.Ф. Самарина.)
[iii] С месяц тому назад я получил от отца Гагарина (о книге которого здесь идет речь) литографированное письмо, в то же время разосланное им в редакции некоторых из наших газет. В этом письме о. Гагарин заявляет, между прочим, во-первых, что книга его (La Russie sera-t-elle catholique) вышла не в 1850 и не в 1851, а в 1856 году, во-вторых, «что он обращался в ней не к власти, а к общественному мнению и никогда доносов не писал и писать не будет». Оба эти заявления требуют объяснения.
Четвертое мое письмо в ответ о. Мартынову я писал в деревне, не имея под рукою книги о. Гагарина; достать ее не было тогда никаких средств, и потому я определил время ее появления приблизительно, положившись на память, которая меня обманула. Охотно сознаюсь в невольной ошибке перед о. Гагариным и перед читателями.
Еще охотнее взял бы я назад мое суждение о направлении его книги; но, к сожалению, перечитав ее, я убедился, что в этом отношении память моя мне не изменила. Граф Местр в начале нынешнего века рекомендовал правительству иезуитское общество как надежнейшую из тайных полиций и, не без некоторого успеха, приспособил к России один из употребительнейших приемов латинской пропаганды: клевету, заподозревание намерения и возбуждение подозрения в представителях власти. На книгу отца Гагарина я сослался как на доказательство, что иезуиты и теперь не отказались от этой системы. Прав ли я был - об этом пусть судят читатели по следующим выпискам. Я привожу их буквально по переводу о. Мартынова.
«Взглянем теперь на приверженцев революции в старой московской партии (разумей: между так называемыми славянофилами). Всего соблазнительнее или, лучше сказать, всего обаятельнее действует на эту партию призрак троякого единства, духовного, политического и народного. Цель его - дать каждому из оных равный объем (?) и таким образом слить все в одно (??), и тем упрочить их торжество. Это начало применяется ко всей политике, как внутренней, так и внешней... Но кто не видит в этом огромном проекте революционного направления? И в самом деле, в глазах представителей помянутой партии, самодержавие ничто иное как путь к победе, орудие, необходимое для битвы, диктатура и т. д. Но когда пробьет для самодержавия роковой час, тогда, чтоб сбыть его с рук, выведут без всякого затруднения из этой же самой народности начала политические, как нельзя более республиканские, коммунистические, радикальные. Покамест эти начала стоят на втором месте, в тени; но они тем не менее важны в мнении людей, посвященных в тайны этой партии» (заметьте, по уверению о. Гагарина, он относится не к правительству, а к обществу).
«То же самое должно сказать о православии... В доказательство сказанного стоит только посмотреть, как скоро эти ревностные заступники православия ладят с последователями Гегелевой философии, касательно вопроса об отношении церкви к государству» (кто же это так легко ладил? Уж не Хомяков ли или Киреевский?).
«Наконец, даже и началу народности дано неестественное направление, делающее из нее постоянное орудие революции. Действительно, если бы желание удовлетворить требованиям славянской народности было искреннее, в таком случае не следовало приносить народность польскую в жертву русской (вот оно!), ни упускать из виду народность сербскую или чешскую» (это славянофилы-то упускали!).
«Из сказанного довольно видно, что кроется под пышными словами: православие, самодержавие, народность. Не иное что как революционная идея XIX в. в восточном покрое. Сравните московских славянофилов с юною Италиею; вас поразит их сходство... Только сомнительно, чтобы западные демагоги, не исключая и итальянских, выдумали, для несомненного действия на массу народную, что-либо лучшее панславизма и т. д» (О примирении русской церкви с римскою, сочинение И. Гагарина, перевод И. Мартынова, священников (sic) братства Иисусова. Париж. А. Франк. 1858 г., стр. 80, 81, 83, 84, 85, 86).
Зачем о. Мартынов передал русской публике эти темные страницы из литературной деятельности своего собрата? Зачем сам о. Гагарин вынудил меня напомнить о них! (Прим. Ю.Ф. Самарина.)
[iv] De l`existence et de 1`institut des Iésuites par le P. Ravignan, p. 112. (Прим. Ю.Ф. Самарина.)
- Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы получить возможность отправлять комментарии



