Бастилия и Вандея. Дмитрий Ольшанский
Почему получается так, что протест протесту рознь
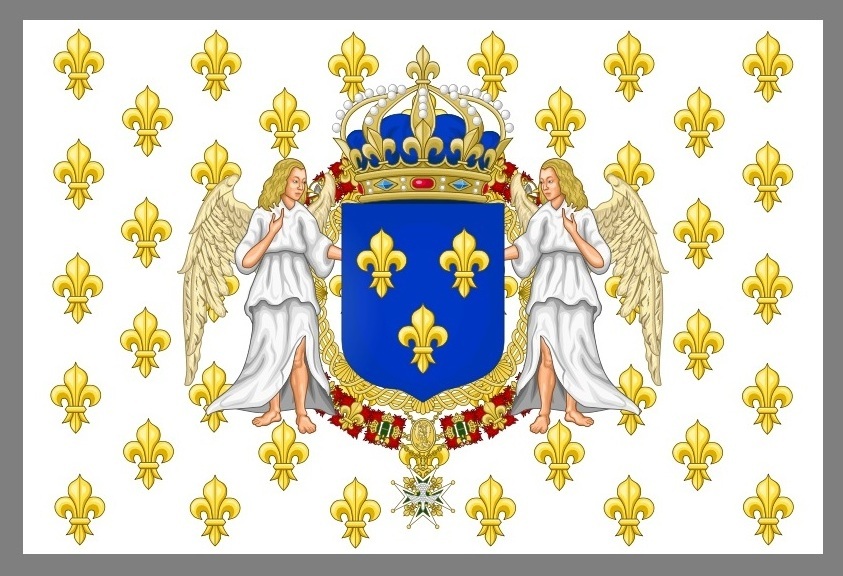
1.
Сейчас никто об этом не помнит, но в поздние девяностые и нулевые у нас уже была одна молодёжная антикремлёвская революция – шумная и безнадёжная, – о которой писали книги, а потом ставили спектакли, о которой спорили, и которую пытались то осудить, то использовать взрослые.
Это была политическая работа партии Эдуарда Лимонова.
Мальчики и девочки, которых Дед, как его называли, привлёк на свою сторону, захватывали разные важные учреждения, где цепляли себя к батареям и выбрасывали из окон портреты первых лиц, и они выходили на улицы и шли навстречу властям, а их когда-то били, когда-то судили, сажали, натравливали на них футбольных фанатов, сочиняли про них разоблачительные статьи, что это, мол, фашисты, ату их, и один из этих революционеров, серпуховский нацбол – его звали Юрий Червочкин – так и погиб после нападения. Были, впрочем, и другие жертвы.
Это – сюжет общественный.
Но есть у меня и второй связанный с ними сюжет, уже только мой.
Дело в том, что мне – и тогда мирному, тихому, преждевременно занудному и скорее лояльному начальству, – лимоновцы нравились.
Я не просто любил книги их удивительного и вечно мятежного вождя, нет, я с восхищённым вниманием смотрел на их выходки и захваты, мне случалось даже терять работу из-за симпатии к их делу, и я знакомился с ними – как беспартийный интеллигент с отчаянными бойцами – и я думал о них: вот это люди. Не люди, а золотой запас.
И вот прошли годы.
И уже нет на свете Лимонова, а собранные им люди-монеты разбросаны далеко друг от друга – кто-то сильно потускнел, а кто-то остался таким же упрямым и смелым, – а в России бунтует и бегает по улицам уже другая революция, и на неё тоже наступает полиция, и её тоже хватают и судят, и даже больше, чем лет пятнадцать-семнадцать назад.
Но для меня кое-что изменилось.
Даже и тени восхищения теперь нет у меня, и на свежих протестующих я смотрю с холодным отвращением – так, что и полицейский из оцепления, в шлеме и со щитом, мне бесконечно милее и ближе их. Что же так поменялось?
Казалось бы, возраст.
Казалось бы, горький чемодан опыта и цинизма, который этот возраст тащит за собой.
Но я отказываюсь признаваться в таком.
И у меня есть своя версия.
2.
Нацболы, ставшими героями русской истории в её самое скучное, самое бессобытийное время, когда советский развал уже кончился, а эпоха Крыма и новой холодной войны ещё не началась, – интуитивно почувствовали и поймали что-то очень существенное в своей, казалось бы, одновременно опасной и бессмысленной борьбе.
Мотивом тех лет было ощущение смерти двадцатого века, когда титанический масштаб революций, войн, больших открытий, массовых движений и романтических утопий – словно бы исчез навсегда, был снесён как ветхий дом, а на смену ему пришёл вселенский торговый центр. Полезный, комфортный, но слегка тошнотворный в своей пластиковой пошлости. Ветер времени шептал тогда: хватит, нам не нужно больше этих ваших надежд и фантазий, от них одни неприятности, так что ты купи лучше часы и трусы, а потом возьми кредит и купи сумку. И ещё одну. И этот шёпот был так убедителен, так хорошо слышен всем, что и сам Кремль был не более чем приложением к этому миру часов и трусов, этаким мелким фрагментом магазинного пейзажа.
Ветер времени, повторюсь, был силён.
И на его пути встали нацболы.
Их движение – насквозь ностальгическое по отношению ко всей сразу героике так называемого модерна, то есть к политическим мифам последних столетий, – было противоположно настроению пришедшего на историческую сцену человека-менеджера и человека-потребителя. И, штурмуя Севастополь и Ригу, мечтая о той империи, которую отказывалась возвращать Москва, они как бы говорили преследовавшим их судьям и полицейским: это мы, мальчики и девочки, – настоящий старый порядок, мы – это родина, это государство, а вы так, предатели и конформисты.
И это было красивое, мощное обвинение, плывущее против потока.
А потом всё перевернулось.
3.
Русская власть в десятые годы двадцать первого века поссорилась с мировыми хозяевами.
Разумеется, не надо сочинять ей какие-то лишние причины такого поступка – вышло так из-за нагромождения драматических обстоятельств, а вовсе не в силу принципа, – и, тем не менее, в те великие дни, когда в симферопольском центре возникли неизвестные военные, этот разрыв случился.
Наш народ устал быть ненужным, – бросил тогда по этому поводу гениальную фразу Лимонов, сразу одобривший исторический перелом.
Но сокол с места – ворона на место.
И, вместо большого писателя и артиста своей жизни, фасадным оппозиционером – по отношению к непослушной отныне власти – стал банальный человек, примоднённый адвокат и жонглирующий несколькими пустыми фразами коуч (о, что за слово, но только оно и подходит), а взамен мальчиков и девочек, пытавшихся закрыть собой путь для ветра времени – мы увидели новую молодёжь, этаких ветряков, быстро-быстро машущих руками, чтобы этот ветер дул ещё сильнее.
Мы вообще увидели нечто занятное – правда, в самом скверном смысле.
У нас теперь есть бунт, который всем сердцем поддерживают миллионеры и биржевики, звёзды пластической хирургии и завсегдатаи лучших курортов, суетливые литераторы и патриоты каких попало государств, за исключением нашего, – и, ну конечно же, этот бунт обнимает и целует её величество заграница.
И эти нынешние протестующие – такого неуловимо комсомольского духа, в этих своих одинаковых капюшонах, – они больше не говорят полицейскому: родина – это мы.
Какое там. Ну её, хулиганку.
Мы – это психотерапия, зелёные волосы, тренинги и коворкинги, берлинские галереи и тель-авивские пляжи, балийские сёрфинговые доски и тайские острова, борьба с глобальным потеплением и борьба за раздельный сбор мусора, блокировка токсичных высказываний в социальных сетях, феминистские шелтеры и квир-фестивали, веганы и осознанные границы.
Мы – это само время.
Полицейский, подвинься.
Но человек в шлеме и со щитом, всё ещё прикрывающий собой прежнюю, отменённую жизнь, упрямо стоит и не уходит.
4.
В истории революций и разного рода общественных перемен есть вечный сюжет: люди, идущие на риск во имя моды, так называемого прогресса и духа времени – и люди, встающие у них на пути, чтобы защитить то, что у них раньше было, и чему приказали не быть.
Комиссары семнадцатого года – и белые первопоходники. Оборонявшие Белый дом девяносто первого – и оборонявшие его же, но в девяносто третьем году. Хлопцы из Киева – и мужики из Донецка. Американские блм-щики – и сторонники Трампа с флагами Конфедерации. Навальнисты и лимоновцы, хоть и поменявшиеся местами против обычного – в двух десятилетиях этого века.
Бастилия и Вандея, сопротивление ради разрушения и сопротивление ради сохранения, они идут сквозь столетия как непримиримая пара – и каждый человек, воспринимающий политику как любовь и политику как судьбу, должен выбирать между ними: он действует сегодня, имея в виду смутное, воображаемое завтра – или же хрупкое, ценное вчера.
Мне было легко определиться: я не люблю будущее, пахнущее восторженной пошлостью и дешёвым обманом, я люблю старый мир за полицейским щитом.
Я выбираю Вандею.
- Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы получить возможность отправлять комментарии



